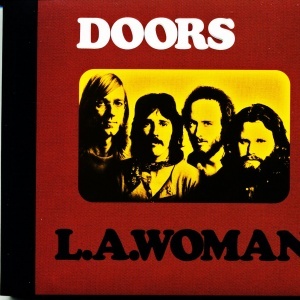"Главная свобода - это быть самим собой"
Джим Моррисон
и
The Doors
JimMorrison.ru
Джим Моррисон: Логос Смерти. Часть 3
Космогонический миф представлен у Моррисона опосредованно, через эсхатологию и амбивалентность символики, в частности, водной. Образы воды буквально затопляют его текстовое пространство: это и архетип моря, реки, океана, берега, с одной стороны, и кенотип ванны, пляжа — с другой. В мифопоэтической традиции вода сущностно связана как со смертью, так и с витальностью: за морем находится царство мертвых, но из моря же возникает жизнь. «Давай поплывем к луне / Давай залезем в прилив / Отдадимся ждущим мирам / Окутавшим другой берег… / Нет времени решать / Мы вступили в реку / В нашу лунную прогулку… / Давай прокатимся / Вниз к океану / Ближе, теснее / Вниз, вниз, вниз»”.
«Существует внутренняя обусловленность подобных описаний, что говорит о связи с архетипами; встреча моря и суши может рассматриваться как важный опыт переживания границы, порога между бесконечным и конечным». Другой образ, коррелирующийся с символикой моря и встречающийся у Моррисона, —образ поля: «Я хочу умереть в чистом поле / И чувствовать прикосновение змей». В этой фразе — квинтэссенция мифопоэтики Моррисоиа. Мифологемы «поле— море» имеют общий знаменатель—безбрежность, смысл которой — прорыв в иной план бытия. Таким способом, возможно, транслируется образ Хаоса, поскольку в самых разныч традициях он связан с водной стихией, и артикулируется тема смерти и сновидений, имеющих общий исток, к которому относит человека море. Эта нить тянется к фигуре бога Земли, почитавшегося и как владыка моря. «Ночной» акцент усиливает символика луны, являющейся олицетворением подземного мира и одной из ипостасей бога Земли (у некоторых народов луна и змея отождествляются). Следовательно, транскрипция фразы «Давай поплывем к луне» звучит как «Давай поплывем к богу Преисподней»: «Я вновь призываю темных / Сокрытых кровавых богов».
В неолитических культах море считалось находящимся на Западе, соответственно, образовалась семантическая связь между понятиями «море» и «Запад», поэтому вход в обитель бога Земли мыслился на Западе: «Езжай по Королевскому Пути… / Езжай по Западному Пути… / Лучше — на Запад» (в мифологии многих индейских племен на Западе была страна оплакивающих духов). В других строках автор непосредственно идентифицирует себя с древним богом: «Я — проводник в лабиринте Монарх в изменчивых дворцах / На этом каменном полу».
В мифотворчестве Моррисона сопрягаются два способа переживания мифа:
трансперсональная память, дар и техника самораскрытия, которые делают возможным обращение к собственным истокам;
особый аппарат чувствования, сохраняющий связи с архаическими структурами психики.
Как и всякое мифомышление, мышление Моррисона на чувственно-метафорическом уровне оперирует конкретным и персональным: «Моя плоть живая / Мои руки — как они двигаются / Ловкие и гибкие, словно демоны / Мои волосы — как они спутаны / Мое лицо — впалые щеки / Мой огненный язык — меч / Разбрасывающий слова-искры» . Для представлений Моррисона особенно характерны архаические аспекты культовых систем и, в частности, одушевление окружающей среды. Так, например, он систематически употребляет в отношении Змея местоимение «he» — «он», что в английском языке применимо только к человеку; все остальные одухотворенные или неодухотворенные объекты должны обозначаться «it». Мифопоэтическое начало у Моррисона обусловлено не только общекультурными традициями, но и свойственной его психофизике особенностью самоидентифицироваться с природностью: «… Мы из Солнца и Ночи… / Мы спустились по рекам и склонам / Мы пришли из лесов и полей». Это то, что называется органическим мифологизмом. Наличие мифологической модели мира не только и не столько в открытых пластах его письма, сколько в подтексте, говорит об отсутствии мифологизма как приема. У «городского» поэта второй половины XX века образ города как такового практически отсутствует. Это тем более неожиданно, что Моррисон является продуктом урбанизированной цивилизации. Пространство в его текстах всегда разомкнуто, его структура основывается на образах стихий (вода, огонь), мифологемах леса и перекрестка.
В знаково-мифологический комплекс Моррисона осевым параметром пространственной семантики входит бинарная оппозиция «город—лес», «цивилизация — природа»: «Покинем гнилые города / Ради доброго леса»”. Обычно в мифологиях лес рассматривается как «одно из урочищ сил, враждебный человеку (в дуалистической мифологии большинства народов противопоставление “селение — лес” является одним из основных). Через лес, как и через море, лежит путь в царство мертвых. В позднейших мифологиях конфликт «селение — лес» усугубляется и выливается в противопоставление «культура — природа». Для некоторых традиций становится характерным стремление вырубить лес, «окультурить» деревья в бревна для городского строительства.
Моррисону свойственна совершенно обратная тенденция. Образ «доброго леса» возникает у него на противопоставлении «неоновой роще гнилых городов».
Апофеозом моррисоновской городской эсхатологии стал текст Blood in the streets («Кровь на улицах»): «Кровь на улицах / Доходит до лодыжек / Кровь на улицах / Доходит до шеи / Кровь наулицах / Города Чикаго / Кровь на восходе / Преследует меня…”. Здесь семантической единицей каждой строки выступает образ крови, он же «держит» регулярную пульсацию ритма всей партитуры. Кровь выходит за пределы телесности города через улицы-артерии в Космос. Происходит расширение затопляемого пространства. Возникает картина Кровавого Потопа. Потоп оборачивается круговоротом. Цикл повторяется. Этот мотив усугубляется фигурой круга — одной из ключевых единиц сакральной геометрии Моррисона.
Еремеева О.В., m-kultura.ru